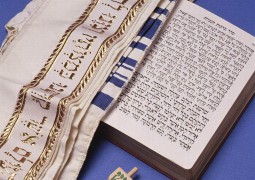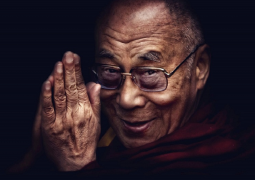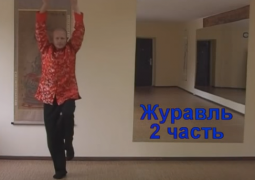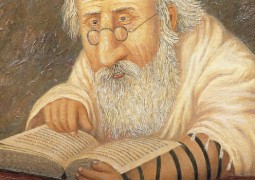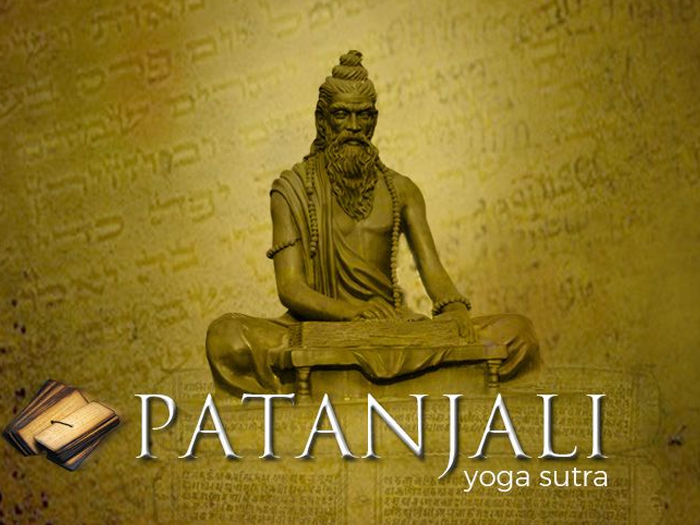- Здоровая кухня Чесночный суп с чеддером
- Здоровье У Цинь Си
- Здоровье 1 день голодания омолаживает организм на 3 месяца!
- Здоровая кухня Простой салат с баклажаном, фетой и рукколой
- Аюрведа Агни: Сила внутреннего огня
- Здоровая кухня Суп-пюре из брокколи и порея
- Духовность Иудаизм. Кратко.
- Духовность Все четырнадцать Далай-лам
- Здоровая кухня Рис с авокадо и кинзой
- Духовные практики Как избавиться от негативных жизненных установок
Йогин и его духовный путь в йоге Патанджали
Допечатный текст статьи в Karin Steiner (Hrsg.) «Пути к спасению: сакральность и сакрализация в индуистских традициях?», Висбаден: Харрассовитц, 2014.
1. Йога-шастра Патанджали: религиозная и духовно-историческая классификация.
Йога-шастра Патанджали (Pātañjala-Yogaśāstra), древнейшее авторитетное учебное пособие по философии йоги на санскрите, было частично скомпилировано, частично написано между 325 и 425 гг. н.э. автором и редактором по имени Патанджали (Patañjali), о жизни и работах которого, кроме этого факта (авторства Йога-шастры – прим. пер.), ничего более не известно.
Разделенная на четыре главы работа состоит из двух наиболее четко различаемых слоев текста, один из них в большинстве печатных изданий содержит 195 коротких номинальных фраз.[2] Эти так называемые сутры (sūtra-s), которые Патанджали, вероятно, частично позаимствовал из более древних текстов, служат кратким содержанием или заголовками для второго слоя текста, состоящего из комментариев и пояснений к сутра-текстам, полемических дискуссий, альтернативных мнений, дополняющих высказываний, а также из поддерживающих позицию автора цитат, взятых из преимущественно утраченных на сегодняшний день авторитетных работ доклассической Санкхья-йоги (Sāṅkhya-Yoga).
Этот второй слой текста в пояснительной литературе обычно называют Йога-бхашья (Yoga-Bhāṣya) и нередко, однако ошибочно, представляют как комментарий к cутрам, приписывая его автору по имени Вьяса.[3]
1.1. Четвертый век н.э., то есть время, которым приблизительно датируют работу Патанджали, иногда называют золотой эрой классической санскритской культуры.[4]
Расцвету этой культуры способствовали стабильные политические и экономические условия, установившиеся на индийском субконтиненте во времена правления династии Гупта. Цари династии Гупта, которые создали первую за более чем 600 лет Cеверо-индийскую империю, политически поддерживали брахманизм и продолжили таким образом политику, которая применялась иноземными правителями к Северной Индии с первого века нашей эры, вплоть до узаконивания и гарантирования их вновь установленной власти.[5]
1.2. Брахманизм, поддерживаемый правителями Гупта, имеет свои корни в средневедической религии – ритуализме, который появился на Северо-Западе индийского субконтинента около 800 г. до н.э. из своих ранневедических предшественников. Основополагающим элементом средневедической религии является вера в то, что сложные ритуалы жертвоприношения могут оказать решающее влияние на судьбу субъекта как при жизни, так и после смерти.
Необрахманизм времен Гупта однако ни в коем случае не являлся простым продолжением своих средневедийских истоков. В значительной мере Гупта также поддерживали различные религиозные группы, в будущем объединенные собирательным термином «индуизм», которые на протяжении многих веков развивались в постоянном контакте и продолжительной полемике с представителями шрамана-религий. Эта группа религий, к которой причисляют также ранний джайнизм и буддизм, происходит из восточной части бассейна Ганга, где она, судя по всему, независимо от ведийского ритуализма установилась во времена второго заселения Южной Азии за 500 лет до н.э.[6] Довольно рано, однако не позднее времен Первой великой индийской империи при династии Маурьев, т.е. примерно с 300 г до н.э., эти религии получили сильную поддержку от правящих домов и богатых граждан, что возвело шрамана-религии на ведущее место среди южно-азиатских религий.
Основой шрамана-религий является картина мира, значительно отличающаяся от картины мира ведийских религий в связи с принятием понятия кармы.
Насколько источники позволяют реконструировать ранние идеи джайнизма и буддизма, похоже, что обе эти религии выходят из одной концепции, которая допускает следующие представления относительно кармы и перерождения:
1. Мир является круговоротом перерождений, сценой последовательных воплощений на различных планах бытия в небе, на земле и в подземелье.
2. План бытия перерождения, так же как и качество переживаний и опыт, который существо проживает во время воплощения, определяется качеством действий и опытом предыдущих воплощений. Хорошие действия ведут к благополучию, плохие действия ведут к страданиям.
3. Каждое воплощение в круговороте перерождений в значительной мере сформировано (обусловлено – прим. пер.) страданием. Чтобы избежать вечных страданий, как минимум для некоторых людей, является возможным и стоящим усилий покинуть круговорот перерождений и таким образом достичь полного освобождения.
Различные религиозные и философские направления брахманизма выработали различные стратегии отношения к ранее чуждым представлениям о карме и перерождении: от полного отрицания до глубокого принятия. Патанджали и его предшественники выбрали второй вариант. Они приняли картину мира шрамана-религий и вывели новые духовные и философские представления, которые должны были объяснить, как и почему существа оказываются захваченными в круговороте перерождений, что освобождение из этого круговорота возможно, а также какие методы достижения этой цели доступны и для кого.
2. Философские основы Йога-шастры Патанджали.
Для Йога-шастры Патанджали, (а также в целом и для родственной йоге философской системы – классической санкхьи) характерны следующие рел.-философские взгляды:[7] мир состоит из двух онтологически различных частей. С одной стороны, существует бесконечно много трансцендентных субъектов или душ. Субъекты являются чистым сознанием – как сознание без содержания. Они свободны от какого-либо рода деятельности, вечны и неизменны. С другой стороны, мир состоит из продуктов пра- или протоматерии, которая является неосознанной, активной и изменчивой. Под воздействием субъектов, протоматерия из абсолютно неспецифического состояния, которое находится за пределами человеческого восприятия, превращается в объекты воспринимаемого мира.
В этом процессе преобразования (pariṇāma), который понимается как прогрессирующее приобретение качеств неизменным носителем, т.е., состоящей из трех компонентов – саттва, раджас и тамас (sattva, radjas, tamas) – протоматерией, сначала появляется объект (сущность), который называется «пустой признак» (liṇgamātra) или «большой» (mahat). Он считается «чистым бытием». Из данного объекта развивается «индивидуализация» (ahaṃkāra), которая образует исходную точку расщепления процесса преобразования на две линии развития. С одной стороны индивидуальность преобразуется в «чистые материалы» (tanmātra) – звук, прикосновение, форма, вкус и запах, из которых затем образуются большие элементы (mahābhūta) – пространство, воздух, огонь, вода и земля, которые затем преобразовываются в объекты воспринимаемого мира. Индивидуальность однако преобразуется не только во все объекты окружающего мира, но также образует чувства, пять органов действия (голос, рука, нога, выделительные органы и сексуальные органы), а также ментальный орган (chitta) всех живых существ.[8]
Существование ментального органа не ограничено единичным воплощением. Как место хранения ментальных впечатлений, которые связаны с действиями, имеющими отношение к карме, существует ментальный орган живого существа с безначального времени и потенциально вечно, до тех пор, пока он (ментальный орган) не растворится в протоматерии, в процессе освобождения субъекта из круговорота перерождений.
Эти метафизические предпосылки составляют основу эпистемологии и сотериологии классической йоги. Ментальный орган обеспечивает субъект восприятия, трансцедентную душу, информацией, которая становится содержанием сознания, в котором субъект себя созерцает. Содержимое сознания, которое было воспринято субъектом, оставляет в ментальном органе следы или впечатления (saṃskāra), которые могут быть реактивированы как воспоминания. Однако для йогических представлений о карме и перерождении некоторые ментальные впечатления имеют особое значение, а именно те, которые возникли в результате кармически значимых действий. Такие следы сохраняются в ментальном органе до тех пор, пока смерть живого существа не выразит их обобщенное влияние в новом рождении в форме существования, соответствующей накопленным кармически значимым следам в виде продолжительности жизни и положительного либо отрицательного опыта, которые соответствуют качеству ранее совершенных действий.
Однако обычный человеческий опыт противоречит представленному выше йогическому анализу ментальных процессов. Мы обычно не осознаем ментальные процессы как результат взаимодействия некоторого материального органа мышления, ответственного за содержание ментальных процессов, с некоторым трансцендентным субъектом, который преобразует информацию в содержимое сознания.
Для нас ментальные процессы имеют единообразную (равномерную) природу. С точки же зрения философской йоги, данный анализ повседневного опыта базируется на глубоком заблуждении. Субъект не осознает свою истинную трансцендентную природу, идентифицирует себя с ментальным органом и его содержанием и ошибочно полагает, что на него оказывает влияние содержимое сознания. Субъект переживает таким образом радость и страдания, хотя эти ощущения, как и прочие ментальные процессы, проигрываются только в ментальном органе и таким образом, на самом деле не затрагивают субъект.
Итак, целительная цель йоги Патанджали состоит в том, чтобы разрушить ошибочное отождествление субъекта с ментальным органом, что приведет к освобождению субъекта от наполненного страданиями круга перерождений. Методика для достижения данной цели ведет через распознавание (осознание – прим.пер.) онтологической разницы между субъектом и материей в медитативном погружении, которое называется «осознание разницы» (vivekakhyāti) к бессодержательному самоосознанию субъекта.
После данного переживания, ментальный орган йогина продолжает существовать до конца его настоящего воплощения. Затем, вместе с физической смертью йога, ментальный орган растворяется, в то время как субъект самостоятельно, без контакта с материей, освобожденный из круговорота перерождений, существует далее. Таким образом йогин достиг своей спасительной цели, т.е. абсолютного устранения страдания в круговороте перерождений. Как я опишу подробнее в следующей главе, для Патанджали данную цель, [а именно] упразднение страдания, обосновывает сравнение йоги с местной индийской медициной.
3. Исцеление в Йоге Патанджали
Действительно, тесная связь между йогой и медициной, а в особенности лечение природными средствами (натуропатия), которое характерно для современной постуральной йоги,[9] относится к многочисленным новшествам, которые йога обрела в процессе своей долгой истории. Йога Патанджали все же касается темы телесных и психических недугов, но только поверхностно. Патанджали говорит о болезнях лишь только в контексте Йога-шастры Патанджали 1.30. Там он, начиная с «болезни», перечисляет девять факторов, которые отвлекают ментальный орган от медитативного погружения.[10]
Избегание и устранение всех отвлекающих факторов, т.е. также и болезни, достигается, в соответствии с Йога-шастрой Патанджали 1.29 посредством преданности йога божественному, а не посредством, например, целительных и предохранительных мероприятий Аюрведы. Тот факт, что Патанджали однако был хорошо знаком с некоторой школой целительства, теоретические основы которой во многом согласуются с Аюрведой, подтверждается не только в его определении слова «болезнь», как «нарушение, коренящееся в эмоциях и действиях» (dhātu-rasa-karaṇa-vaiṣamya)[11], но также и в Йога-шастре Патанджали 3.29, где автор представляет медицинские знания как результат концентрации ментального органа (saṃyama) на пупке, и при этом пользуется терминологией и концепцией тела ранней классической индийской медицины, даже если таковые соответствуют не во всех деталях тем, что отражены в имеющихся на сегодняшний день специальных работах.[12]
Тот факт, что исцелению болезней тела в Йога-шастре Патанджали уделяется мало внимания, нисколько не удивителен, если взять во внимание исходящее из сотериологического аспекта работы общее негативное отношение Патанджали к человеческому телу. Потому что тело, в соответствии с представлениями Санкхья-йоги, принадлежит к миру материи и т.о. относится к тем объектам, от которых субъект во избежание будущих страданий должен избавиться.
Кроме того, человеческое тело представляет собой источник опасностей для успеха духовных практик. С одной стороны, женское тело считается возможным объектом влечения, который йог должен воспринимать с отсутствием желаний (vairāgya)[13]. С другой стороны, для йога существует опасность идентифицировать себя с ощущениями тела, и таким образом укрепить связь субъекта с материей. Этот процесс, который считается причиной всех страданий в круговороте перерождений, поддерживается психическими факторами, которые Йога-шастра Патанджали 2.3-2.9 перечисляет и описывает, как пять загрязнений или пристрастий (kleśa). При этом речь идет о: (1.) Незнание (avidyā), (2.) Эгоизм (asmitā), (3.) Желания (rāga), (4.) Неприязнь (dveṣa) и (5.) Воля к жизни (abhiniveśa)14. Среди загрязнений или пристрастий основным злом считается незнание, т.к. оно является фундаментом, благодаря которому прочие причиняющие страдания факторы могут существовать.[15]
Патанджали различает три типа незнания, а именно: считать вечным невечное, считать чистым нечистое, считать радостным наполненное страданием. Как пример для второго типа незнания, Патанджали предлагает ошибочное восприятие чистоты в отношении человеческого тела. Он уточняет это положение в следующем фрагменте:
«Таким же образом проявляет себя ошибочное восприятие чистоты в нечистоте, в грязном и отвратительнейшем теле: ученые знают о теле, что оно нечисто из-за своего места пребывания, из-за своего происхождения, из-за своей основы, из-за своих выделений, из-за своего разрушения и ввиду того, что его чистоту необходимо сначала создать». (Йога-шастра Патанджали 2.5,5-8: tathāśucau paramabībhatse kāye – sthānād bījād upaṣṭambhān niḥsyandān nidhanād api | kāyam ādheyaśaucatvāt paṇḍitā hy aśuciṃ viduḥ || iti – aśucau śucikhayātir dṛśyate.).[16]
Шанкара (Śaṅkara) (который, скорее всего не есть одно и то же лицо с одноименным адвайтином), автор наиболее древних и однозначно наиболее информативных комментариев к Йога-шастре Патанджали, который вполне вероятно жил в VIII веке н.э., в своем комментарии к данному отрывку объясняет «место пребывания» как пребывание тела во время беременности в матке. Слово «происхождение» он объясняет, опираясь на индийскую эмбриологию, в соответствии с которой эмбрион происходит из соединения двух ритуально нечистых субстанций: спермы и менструальных выделений. Нечистые основы тела, по Шанкаре – три патогенетических субстанции (doṣa) – ветер, желчь и слизь, которые по представлениям Аюрведы определяют здоровое состояние тела, в то время как под нечистыми выделениями тела понимаются пот, моча, кал и т.п. Под «разрушением» тела понимается физическая смерть человека и ритуальная нечистота, которую смерть приносит в семью умершего. В конце концов чистота тела должна быть восстановлена в ритуальных контекстах, например, через освящение, поскольку из комментариев Шанкары следует, что естественное состояние тела – ритуальная нечистота.[17]
В своем негативном отношении к человеческому телу Патанджали глубоко созвучен с представлениями раннего буддизма. Если упустить из внимания религиозно-философские различия между ранним буддизмом и Санкхья-йогой, медитации в буддизме строятся также с целью избавиться от желаний своего тела и желаний к другим людям «a countermeasure against the habitual tendency to identify with the body» (Kuan 2008: 54).
Итак, хотя медицинские знания и не играют большой роли в Йога-шастре Патанджали, в то же время индийская наука о целительстве (cikitsāśāstra) приводится в Йога-шастре Патанджали 2.15 в качестве выразительного примера с подробными объяснениями самопонимания йоги как целительного метода[18]. Там сказано следующее:
«подобно тому, как авторитетное медицинское учение охватывает четыре раздела, а именно: (1) болезнь, (2) причина болезни, (3) здоровье и (4) применение лекарственных препаратов, таким же образом объединяет авторитетное учение йоги также четыре раздела, а именно: (1) круговорот перерождений, (2) причина круговорота перерождений, (3) освобождение и (4) методика, которая ведет к освобождению. При этом, круговорот перерождений – это то, что следует оставить. Связь протоматерии и субъекта (puruṣa) является причиной того, что следует оставить. Окончательное растворение этой связи и является оставлением. Методика оставления является верным взглядом (или «верным обзором») (Йога-шастра Патанджали 2.15,45-49: yathā cikitsāśāstraṃ caturvyūham — rogo rogahetur ārogyaṃ bhaiṣajyam iti, evam idam api śāstraṃ caturvyūham eva. tad yathā — saṃsāraḥ saṃsārahetur mokṣo mokṣopāya iti. tatra duḥkhabahulaḥ saṃsāro heyaḥ. pradhānapuruṣayoḥ saṃyogo heyahetuḥ. saṃyogasyātyantikī nivṛttir hānam. hānopāyaḥ samyagdarśanam.).
Это место в тексте было по-разному интерпретировано Вецлером (1984) и Хальбфассом (1991). Вецлер убедительно аргументировал в защиту буддистского происхождения примечательного примера медицины как структуры йогической сотериологии. Для Вецлера сравнение йоги и индийской медицины, хотя с одной стороны и оправдано, с другой стороны он распознает ощутимую разницу между медицинскими представлениями о здоровье и религиозно-философскими представлениями об освобождении. Для него исцеление – это процесс восстановления телесного и психического здоровья, т.е. восстановление такого состояния, которое уже существовало до наступления болезни. Сотериологические представления опираются по Велцлеру однако не на аналогичное предыдущее состояние свободы от страдания; наоборот, страдание признается фундаментальным составляющим элементом бытия (Вецлер, 1984: 304).
Для Хальбфасса, напротив, аналогия йоги и медицины, возможно, наиболее значительный общий знаменатель между медицинской концепцией здоровья и целью философской сотериологии (Halbfass 1991:250)
Даже при условии, что индийская сотериология не пытается произвести открытие заново (…) исходного совершенства, которое всегда там было, представление о воссоздании естественного состояния здоровья, равновесия и гармонии, как моста между, как выражается Хальбфасс, «терапевтической парадигмой» и обеими сотериологическими парадигмами взросления и освобождения из круговорота перерождений, предлагается как бы само собой. (Хальбфасс, 1991: 250).
Хотя представление о том, что здоровье должно являться естественным состоянием человеческого тела, действительно преобладает в классической индийской медицине, остается неясным, как я уже определил в другом месте[19], о какой именно аналогии между сотериологией и медициной думал Патанджали. В одной из древнейших работ по классической индийской медицине, Чарака-самхите (Carakasaṃhitā,) находятся две, частично противоречащие друг другу концепции здоровья и болезни[20]. Оба представления тесно связаны с теорией о трех патогенетических субстанциях – дошах (doṣa) – ветер, желчь и слизь, которые в здоровом теле находятся в благоприятном соотношении. Эти концепции совпадают в том, что тело заболевает, когда нормальное соотношение трех дош нарушается таким образом, что доши из составляющих тела превращаются в факторы, вызывающие заболевание. Обе теории разделяют точку зрения, что задачей врача должно являться восстановить равновесие дош.
Они (данные концепции) отличаются однако в отношении вопроса, какое состояние тела следует считать исходным. В соответствии с общим преобладающим представлением, естественным состоянием тела является здоровье. Согласно другому мнению, начиная с рождения в теле доминирует всегда одна из трех дош, и, таким образом, задача врача – вызвать равновесное состояние. Данное представление еще более подобно сотериологии йоги, чем представление, выработанное Вецлером и Хальбфассом. Как медицина, так и йогическая сотериология в соответствии с данным представлением хотят исправить ошибки и стремятся установить целостность. Медицина создает совершенство тела и психики, в то время как йога ставит целью духовное совершенство. Но существенная разница между целями медицины и йоги состоит в том, что здоровье является состоянием, ограниченным во времени, и постоянно находится под угрозой болезни, в то время, как освобождение из круговорота перерождений должно быть окончательным.
Таким образом, цель сравнения йоги и индийской медицины в Йога-шастре Патанджали имеет два аспекта. С одной стороны, сравнение подчеркивает негативную картину мира Санкхья-йоги, в которой круговорот перерождений сравнивается с болезнью, а освобождение – со здоровьем. С другой стороны, это сравнение поясняет важность авторитетного учения йоги. Медицина не может достичь ничего большего, чем на время излечить страдание, т.е. болезнь. Йога-шастра Патанджали же предлагает значительно больше, а именно – полное и вечное освобождение от страдания. На методике, при помощи которой предполагается этой цели достичь, я остановлюсь подробнее.
4. Ступенчатый путь к освобождению.
Следующая глава представляет собой набросок йогического пути к освобождению от страданий, при этом рассматриваются как избранные аспекты йогических практик, так и представления о ступенях духовного развития, отражаемые в Йога-шастре Патанджали. Но для начала следует прояснить, кто с точки зрения Патанджали квалифицирован к тому, чтобы встать на исцеляющий путь йоги.
4.1. Йогин.
Хотя в IV веке н.э. уже существовала обширная литература, описывающая социальное положение и образ жизни [человека], нацеленного на освобождение из круговорота перерождений, в Йога-шастре Патанджали, как указывают некоторые отрывки из работ дхарма-литературы, а также из т.н. Санньяса-упанишады (Samnyasa-Upanishaden)[21], не содержится практически никакой информации о социальном положении йоги. В Йога-шастре Патанджали не представлены ни йогические ритуалы инициации, ни социальные контексты, в которых совершается практика йоги. Даже сам вопрос о том, кто имеет право практиковать йогу, Патанджали не выделяет. Таким образом, ответ на данный вопрос можно получить, опираясь только на то, как Патанджали называет практикующих йогу, а также из изложенных им методик йогических практик.
4.1.1. В Йога-шастре Патанджали адепт йоги обычно называется йогин[22]. Это санскритское слово является существительным мужского рода, которое происходит от слова йога с исползьованием притяжательного cуффикса -in, обозначающего «с чем-то возиться, чем-то заниматься»[23]. В соответствии с этим, йогин – лицо мужского пола, практикующее йогу. Слово «йога», в свою очередь, по мнению Патанджали, этимологически происходит от глагольного корня «юдж» (yuj), который спрягается как глагол 4-го класса и означает «быть внимательным, концентрироваться».[24] В соответствии с указанным, йогин практикует йогу в качестве формы духовного учения, в которой медитативная концентрация как особая форма внимания играет важную роль.
4.1.2. В четырех местах Йога-шастры Патанджали встречается определение йогов как «брахманов», «священнослужителй» (brāhmaṇa) [25]. Т.к. Патанджали это слово во всех случаях использует в общем для йогов, вероятно, с его точки зрения, йоги в общем принадлежали к сословию брахманов.
4.1.3. Кроме как йогом и брахманом, называет Патанджали йога-адепта в Йога-шастре Патанджали 2.40 еще и «aскетом» (yati). Более древние примеры использования этого слова в значении «аскет» встречаются кроме прочего в Мундака-упанишаде (Muṇḍaka-Upaniṣad) 3.1.5 и 3.2.6. и Бхагавадгите (Bhagavad Gītā) 4.28. Существительное мужского рода yati по мнению некоторых авторов является отглагольным существительным от cанскритского корня yat «прикладывать усилия, напрягаться», в то время как другие авторы указанное происхождение считают как минимум сомнительным и предпочитают версию происхождения слова yati от корня yam «сдерживаться»[26]. Последняя версия хорошо вписывается в контекст Йога-шастры Патанджали, которая говорит о группе из пяти обязательств перед собой (yama) как одном из восьми вспомогательных средств йоги (yogāṅga), которые ведут к достижению духовной цели.[27]
4.1.4. В трех местах йогин называется с использованием активного причастия совершенного вида глагольного корня vid, — vidvas «знающий».[28] В контексте Йога-шастры Патанджали 2.15, которая содержит характеристику йогина как личности наивысшей чувствительности (на данной характеристике я сейчас остановлюсь подробнее), можно предположить, что знание йогина следует понимать, как убеждения, полученные из философских соображений, что метафизические позиции Санкхья-йоги правдивы и что практика йоги ведет к освобождению из круговорота перерождений.[29] В контексте Йога-шастры Патанджали 4.30., где Патанджали использует определение «знающий» для йогина, который еще при жизни освобождается из круговорота перерождений, слово vidvas описывает, очевидно, человека, чья уверенность в правдивости религиозно-философских позиций Санкхья-йоги в опыте свобождения была обретена и подтверждена в процессе йогической медитации.
Подробнее об образе йогина можно найти в следующем текстовом пассаже:
«Так этот безначальный поток страдания, который так широко распространился, только в йогине [и в никаком другом человеке] вызывает отвращение, т.к. он ему, в соответствии с его знаниями, неблагоприятен. Почему? Потому что знающий подобен глазному яблоку. Как шерстяная нить, если ее положить на глазное яблоко, вызывает в нем при прикосновении боль, однако не вызывает, если ее положить на другие части тела, таким же образом, терзают различные страдания только йогина, который подобен глазному яблоку, но не терзают другого человека, который их переживает». (Йога-шастра Патанджали 2.15,25-29: evam idam anādi duḥkhasroto viprasṛtaṃ yoginam eva pratikūlātmakatvād udvejayati. kasmāt? akṣipātrakalpo hi vidvān iti. yathorṇātantur akṣipātre nyastaḥ sparśena duḥkhayati na cānyeṣu gātrāvayaveṣu, evam etāni duḥkhāny akṣipātrakalpaṃ yoginam eva kliśnanti netaraṃ pratipattāram.).
Патанджали изображает здесь знающего йогина как чувствительную личность, которая отличается от обычных людей своей способностью к осознанию и чувствительностью. Только йогин воспринимает радость как разновидность страдания. Патанджали уточняет разницу между обычным человеком и йогином в сравнении грубости частей тела с глазным яблоком. В то время как человек находит приятным контакт с шерстяной нитью почти на всех частях тела, прикосновение нити к глазу вызывает боль. Таким же образом воспринимает знающий йогин, который обладает особыми когнитивными способностями, связанными с повышенной чувствительностью, радости, происходящие из наслаждения, как вызывающие страдание. В противоположность этому, обычные люди, чья способность суждения с позиции йоги из-за незнания и аффектов замутнена, не распознают несущей страдание природы чувственных радостей и считают достойным приложение усилий для достижения таковых. Для йогина, напротив, радостью является свобода от желания.[31]
4.1.5. Кроме как «знающий», Патанджали в семи местах описывает йогина как «кушала» (kuśala)[32]. В классическом санскрите это слово как прилагательное, кроме прочего, означает «опытный, умелый, искусный» и «здоровый» [33]. На пали (Pāli), напротив, kuśala может являться панданом к санскритскому слову kuśala, которое как прилагательное с религиозной коннотацией также может обозначать «достойный» или «ведущий к благополучию» [34]. Это значение kuśala как прилагательное имеет также в одном из отрывков из Вачаспати Мишры (Vācaspatimiśra), авторство которого (отрывка), вероятно по ошибке, приписывается учителю санкхьи – Панчашикхе (Pañcaśikha).[35] Этот отрывок Патанджали цитирует в Йога-шастре Патанджали 2.13, в контексте представления его теории кармы. В данном случае kuśala обозначает достойную карму, которая определяет посмертную судьбу на небесах[36] (определяет попадание на небеса после смерти – прим. пер.).
Как существительное kuśala представлено только определениями: «а) хорошее состояние, надлежащий порядок» и «b) общее благо, благополучие»[37], в то время как на пали обнаруживается значение слова kuśala как «достойное действие». Ни в одном из этих языков kuśala (kusala) как существительное не имеет значения, позволяющего применить его к субъекту. Таким образом, Патанджали, похоже, применял слово kuśala для обозначения йогинов в качестве именного прилагательного.
В этом направлении двигались также размышления Дж. Вудса (J.H. Woods), автора раннего и влиятельного перевода Йога-шастры Патанджали 1914 года, который остановился на трех различных переводах слова kuśala. Он перевел kuśala как «удачливый»[38], «умелый человек»[39], «хороший человек».[40] При этом, как я хочу показать в дальнейшем, он оказался не совсем прав. Как мы можем увидеть в разделе бхашья (bhāṣya) из Йога-шастры Патанджали 2.9, слово kuśala как обозначение йогина разделяет семантическое множество значений с выше обсуждаемым словом vidvas «знающий». Йога-сутра 2.9 и комментарии к ней предметно обсуждают желание жизни как одну из пяти клеш.
«Самосущая жажда жизни возникает даже у мудрого» (Йога-сутра 2.9)….
И именно так, как видно, что клеша (желание жизни) встречается у совсем наивных людей, также видно, что она сильна и у знающего, который знает прошлое и будущее[41]. Почему? Потому что данная диспозиция (vāsanā), которая происходит из опыта страдания при умирании [в прошлых воплощениях], у этих обоих, у kuśala и не- kuśala, одна и та же. (Йога-шастра Патанджали 2.9,1-9: svarasavāhī viduṣo ’pi tathā rūḍho ’bhiniveśaḥ (Yoga-Sūtra 2.9). … yathā cāyam atyantamūḍheṣu dṛśyate kleśas tathā viduṣo ’pi vijñātapūrvāparāntasya rūḍhaḥ. kasmāt? samānā hi tayoḥ kuśalākuśalayor maraṇaduḥkhānubhavād iyaṃ vāsanā, iti).
Как указано выше, Патанджали подразумевает под «знающим» прежде всего такого йогина, который метафизические позиции Санкхья-йоги считает истинными, а йога-практику – надлежащей для достижения освобождения из круговорота перерождений. Здесь однако возможно, что определение имеет еще одну коннотацию. Патанджали указывает в вышеупомянутой цитате на сверхъестественную способность йогина знать прошлое и будущее. Эта способность, согласно Йога-шастре Патанджали 3.16, происходит из медитации под названием «полный контроль духа» (saṃyama), когда йогин концентрирует внимание на непостоянстве материи. Благодаря этой сверхъестественной способности он знает страдание умирания, так сказать, по собственному опыту. Т.к. по представлениям Санкхья-йоги смерть живого существа не является единичным событием, а, напротив, завершает каждое из бесчисленных существований, желание жизни не предполагает сверхъестественных способностей знать прошлое и будущее.
Желание жизни, согласно Патанджали, в значительно большей степени происходит из повторяющегося опыта умираний, наполненного страданиями, который, в свою очередь, оставляет отпечаток в ментальном органе смертного существа. Множество отпечатков смерти, накопленных в течение бесчисленных существований, формирует ментальный орган и ведет к диспозиции (vāsanā), т.е. к такой базовой структуре ментальной концентрации, которая побуждает живые существа избегать опыт смерти. Поскольку данная диспозиция является универсальной, желание жизни находится в йогине таким же образом, как и в любом другом живом существе.
Выше цитируемый отрывок позволяет прояснить значение слова kuśala посредством того, что слово kuśala во фразе «у этих обоих, у kuśala и у не-kuśala» (tayor kuśalākuśalayor), очевидно, принимает значение упомянутого в предыдущем предложении (также как и в тексте сутры) существительного «знающий» (vidvas).[42] В соответствии с этим, слово vidvas, так же, как и слово kuśala, вероятно означает духовно высокоразвитого йогина, который обладает сверхъестественными способностями. Это значение слова kuśala схоже со значением, которое употребляется в буддизме, а точнее, в Йогачарабхуми (Yogācārabhūmi), «где одно из значений kuśala дано как «обладающий навыками (или являющийся опытным) в глубинном понимании реальности».[43]
Как позволяют увидеть атрибуты, используемые Патанджали для kuśala, это слово обозначает в большинстве случаев такого йогина, который достиг освобождения из круговорота перерождений еще в течение его жизни.[44] В Йога-шастре Патанджали 2.4.8, например, kuśala – это таковой, чьи страсти или скверны уничтожены (kṣīnakleśa) и таковой, который живет в своем последнем теле (caramadeha).[45] Kuśala, в котором взошло осознание (pratyuditakhyāti) и, вместе с тем, все желание уничтожено (kṣīṇātṛṣṇa), больше не будет рождаться.[46] Для него пребывание в круговороте перерождений завершилось.[47]
4.1.6. В единственном месте Патанджали описывает йогина, освободившегося при жизни, как саньясина (saṃnyāsin).[48] Этот термин, наиболее раннее употребление которого в ведической литературе (так же как и выше упомянутый термин yati) согласно Оливелле (Olivelle, 1981:266) обнаруживается в Мундака-упанишаде 3.2.6, означает с III или IV в. н.э. в брахманизме «провидец», который оставил (прекратил) свои ритуальные обязанности. В противоречие данному значению, Патанджали описывает указанным термином йогина, который достиг освобождения при жизни и таким образом не переживает больше никаких кармических последствий поведения.
4.2. Методы йоги.
Исходя из решения оставить позади все формы страдания, йогин выбирает такой стиль жизни, который значительно структурирует фундаментальные потребности его человеческого существования. Из работы Патанджали невозможно сделать вывод о том, как именно строилась жизнь йогина. Однако можно сделать некоторые умозаключения. Наиболее важным источником информации является, конечно же, список из восьми определений, которые в Йога-сутре 2.29 называются вспомогательными средствами йоги и в следующих отрывках Йога-шастры Патанджали детально описываются. Вспомогательные средства, последовательная практика которых сохраняется до окончательного освобождения, таковы: (1.) Обязательства перед собой (yama), (2.) Строгие правила (niyama), (3.) Положения тела (āsana), (4.) Регулирование дыхания (prāṇāyāma), (5.) Изъятие чувств из будничных объектов (pratyāhāra), (6.) Направление ментального органа на желаемые объекты медитации (dhāraṇā), (7.) Размышление/анализ (dhyāna) и (8.) Погружение (samādhi).
Наибольший интерес для понимания образа жизни йогина и лежащей в его основании этики представляют описания двух первых вспомогательных средств: обязательства перед собой и строгие правила. Пять обязательств перед собой: обеты, которые йогин при любых обстоятельствах и на всех этапах своего духовного пути обязан соблюдать. Речь идет о следующих обетах: (1.) Непричинение вреда живым существам (ahiṃsā), (2.) искренность (satya), (3.) не-воровство (asteya), (4.) сексуальный контроль (brahmacārya) и (5.) не-владение (отсутствие собственности) (aparigraha). Соблюдение обязательств перед собой создает базу для выполнения следующих пяти строгих правил: (1.) чистота (śauca), (2.) удовлетворенность собственными условиями жизни (saṃtoṣa), (3.) аскеза (tapas), (4.) самостоятельное изучение авторитетных йога-текстов и мантра-медитация (svādhyāya) и (5.) открытость божественному (īśvarapraṇidhāna). Как Патанджали пишет в Бхашья-части Патанджали Йога-шастры 2.8, «непричинение вреда живым существам» играет центральную роль во всей группе определений обязательств перед собой и строгих правил. Непричинение вреда живым существам является, с одной стороны, обязательным условием для успешной практики остальных ограничений и, с другой стороны, их целью[49].
Если рассматривать «обязательства перед собой» и «строгие правила» как единое целое, становится очевидным, что данные ограничения практически несовместимы с образом жизни йогина в роли главы семьи в рамках общества, сформированного под влиянием ведийских идеалов. Прежде всего обет не-владения (отсутствия собственности), но также и сексуальное воздержание, и обязательный отказ от причинения вреда живым существам невозможно соблюдать главе семьи, который пытается обрести благосостояние в этом мире и благополучие в потустороннем мире посредством того, что растит сыновей и выполняет ритуалы, частично связанные с умерщвлением жертвенных животных. Далее, обет не-владения собственностью исключает проживание в постоянном жилище. Исходя из этого, с большой долей вероятности можно предположить, что Патанджали представляет йогинов как не владеющих собственностью аскетов.
Как становится видно из последовательности, в которой Патанджали перечисляет восемь вспомогательных средств йоги, практика йоги является ступенями к спасению. Эта лестница начинается с принятия пяти обязательств перед собой (yama), которые для йога, живущего как бродячий аскет, при любых обстоятельствах остаются обязательными на всем его дальнейшем пути. К ним присоединяются пять духовных практик, описываемых как строгие правила (niyama), выполнение которых является обязательным условием перед началом выполнения положений тела и регулирования дыхания, которые, в свою очередь, составляют основу для заключительной медитативной тренировки сознания. Тренировка сознания состоит, наконец, из четырех практик: (1.) изъятия чувств с будничных объектов, (2.) концентрации чувств на желаемых объектах медитации, также как и прогрессивное усиление этой концентрации в двух следующих фазах медитации, которые определяются как (3.) размышление (dhyāna) и погружение (samādhi).
4.3. Классификация йогинов.
Специфические переживания, возникающие у йогина в процессе медитации, служили для определения духовного прогресса (роста) и для категоризации йогинов. По этому поводу сказано следующее:
«На самом деле существует четыре типа йогов: (1.) тот, который придерживается первых предписаний, (2.) находящийся на медовом уровне, (3.) такой, которому светит свет озарения, (4.) такой, который шагнул за пределы воплощаемого. Из них первый есть практикующий, которому свет только показался. Второй владеет озарением, которое несет истину. Третий постигает стихии и свои чувства. Все составляющие медитаций, и воплощенные, и те, что еще предстоит воплотить, хранит и защищает он. Он владеет методами, позволяющими достичь того, что еще предстоит сделать. Четвертый, в свою очередь, тот, который вышел за пределы постижимого. Его единственная цель – растворение ментального органа. Семикратно его сознание находится в своем последнем состоянии». (Йога-шастра Патанджали 3.51,3-8: catvāraḥ khalv amī yoginaḥ — prāthamakalpiko madhubhūmikaḥ prajñājyotir atikrāntabhāvanīyaś ceti. tatrābhyāsī pravṛttamātrajyotiḥ prathamaḥ. ṛtaṃbharaprajño dvitīyaḥ. bhūtendriyajayī tṛtīyaḥ; sarveṣu bhāviteṣu bhāvanīyeṣu kṛtarakṣābandhaḥ kartavyatāsādhanavāṃś ca.50 caturtho yas tv atikrāntabhāvanīyas tasya cittapratisarga eko ’rthaḥ. saptavidhāsya prāntabhūmiprajñā.).
4.3.1. Краткие высказывания Патанджали о четырех видах йогинов указывают на содержание учения, которое он в других местах своей работы раскрывает более детально. О начинающем, который переживает свои первые необычные состояния в медитации, мы узнаем подробнее из Йога-шастры Патанджали 1.35 и 36. Там прежде всего идет речь о восприятии, которое порождается направлением ментального органа на различные части тела, как например, восприятие запахов через направление сознания на кончик носа.[51] Эти сверхчувствительные ощущения йогин оценивает как успех его упражнений, что повышает его мотивацию к продолжению духовной практики. Кроме того, эти сверхъестественные переживания укрепляют его убеждения Санкхья-йоги, поскольку у йогина возникают именно такие переживания, которые ему описывали авторитетные тексты и его учитель. В этом в конкретном случае, очевидно, имелось в виду восприятие больших элементов лежащих в основе тонких материй (tanmātra). Это восприятие укрепляет веру йогина в то, что и прочий метафизический «инвентарь» составляющий Санкхья-йогу, существует и будет для него достижим в медитации.[52] Таким образом, сверхъестественные переживания служат для укрепления веры в то, что освобождение из круговорота перерождений достижимо посредством теории и практики Санкхья-йоги.
В процессе дальнейшей практики у йогина появляется более или менее интенсивное восприятие света,[53] из-за которого процитированная сверху строка называет его «практикующий, которому свет впервые показался». Это восприятие света, однако, йогину необходимо отключить в пользу чистого и спокойного осознания себя. Настоящая цель этой начальной медитации состоит в том, чтобы сформировать ментальный орган таким образом, что он «как большой океан без волн – спокоен, бесконечен и становится простым Я-сознанием» (Йога-шастра Патанджали 1.36,5 f.: … nistaraṅgamahodadhikalpaṃ śāntam anantam asmitāmātraṃ bhavati).
4.3.2. Способность приводить ментальный орган в состояние чистого Я-сознания – это необходимое условие для следующих упражнений, овладение которыми характеризует йогина второй категории. Этих йогинов, которые находятся на «помазанном медом» духовном уровне описывают как тех, «чье осознание (prajñā) содержит истину (ṛta)». В Йога-шастре Патанджали 1.48 эти подробности раскрываются более детально. Там автор представляет озарение «несущее истину» как результат особенной медитации, которую он называет самапатти (samāpatti).[54] В своем исследованнии структуры этой медитации Герхард Оберхаммер (Gerhard Oberhammer) (1977: 177-209) показал, что в самапатти воспоминание о воспринимаемом органом чувств объекте служит начальным объектом медитации.
В процессе медитации йогин растворяет все определяющие аспекты этого вспоминаемого объекта таким образом, что он при этом меняет обычное чувственное восприятие, а сам этот объект воспринимается как объект чистого опыта. Следующим шагом йогин рассматривает объект медитации с позиции лежащих в его основании глубоких измерений (в соответствии с учением о развитии (pariṇāma)) в Санкхья-йоге. Объект медитации при этом будет сначала проанализирован как состоящий из больших элементов. Затем элементы редуцируются до чистых веществ и т.д. Данный процесс редукции йогин воспринимает как прогрессирующее проникновение в объект медитации, которое проявляется для него как прогресс его медитативного опыта. Исходя из этого характерного опыта Патанджали описывает йогина на медовом уровне, как такового, «чье понимание несет истину» (ṛtaṃbharaprañja).
Чтобы подробнее охарактеризовать йогина на этом уровне его духовного пути, Патанджали цитирует следующую строфу, которая часто встречается как в брахманической, так и в буддистской литературе:
«Когда мудрец поднялся до чистоты своего понимания, тогда он, освобожденный от страданий, воспринимает страдающих людей, как стоящий на вершине горы воспринимает находящихся на равнине». (Йога-шастра Патанджали 1.47,6-7: prajñāprasādam āruhya aśocyaḥ śocato janān / bhūmiṣṭhān iva śailasthaḥ sarvān prājño ’nupaśyati //). [55]
Этот отрывок показывает, что есть для Патанджали йогин второй категории – тот, который в значительной мере лишен мирских страданий, потому как, будучи в медитации, он осознал весь метафизический инвентарь Санкхья-йоги как реально существующий. При этом йогин прежде всего обрел понимание онтологических отличий субъекта от ментального органа и «знает», исходя из этого опыта, что всё страдание в круговороте перерождений в конечном итоге является результатом ошибочного отождествления субъекта c ментальным органом. Поскольку он это отождествление в значительной мере разрушил, йогин воспринимает себя как такой, которого не касается восприятие, приносящее страдание, и таким образом, как это звучит в выше приведенной строфе «он освобожден от страдания» (aśocya).
Неизвестный автор этой строфы сравнивает йогина, который в медитации обрел осознание, с человеком, находящимся на вершине горы. Tertium comparationis (лат. «третья составляющая» этого сравнения – прим.пер.) – это возвышенное положение, в котором находится как человек, стоящий на горе, так и йогин. Хотя возвышенное положение альпиниста следует понимать с физической точки зрения, в то время как позицию йогина – с духовной. Таким образом сравнение указывает на особенные когнитивные способности йогина, которые выходят за пределы способностей обычного человека. Как возвышенная позиция человека на вершине горы расширяет горизонт, таким же образом приобретенное в медитации осознание позволяет йогину видеть мир в измененной перспективе, которая, возможно, сочетается с ощущением возвышенности.
Хотя (однако, может быть, именно потому, что) йог второй категории располагает продвинутым опытом медитации, он находится в опасности выпустить из виду свою настоящую цель, а именно – освобождение из круга перерождений – в пользу прагматичных и эгоистично мотивированных целей. В связи с этим в Йога-шастре Патанджали 3.51 упоминаются небесные сущности (sthānin), которые заманивают йога, приглашая его провести время на небесах, предлагая ему сексуальные утехи с небесными нимфами и обещая ему исполнение всех его желаний, а также бессмертное тело. Йогин, как указано, должен в то же время не забывать о страданиях круговорота перерождений (дословно – «должен держать их перед глазами» – прим.пер.) и не чувствовать себя даже польщенным предложениями, но продолжать практику йоги.[56]
4.3.3. В цитируемом выше отрывке из Йога-шастры Патанджали 3.51, Патанджали называет йогинами третьей категории таковых, которым свет освещает понимание (prajñājyotis). Таким образом он обращается к началу третьей главы своей работы, где он, сначала в Йога-сутре 3.4, вводит специфическое определение «полный контроль духа» (saṃyama) для некоторых форм медитации, которые составляют три последних вспомогательных средства йоги (dhāraṇā, dhyāna и samādhi), перед тем, как он в следующей сутре описывает «свет озарение» (prajñāloka) как результат полного контроля духа. Термин «свет озарения» понимается в данной связи как особенное, сверхъестественное понимание (осознание) которое йогин с помощью «полного контроля духа» также обретает как особую сверхъестественную способность.
Такое преумножение знаний и силы также находится в центре описания этой категории йогинов как тех, кто овладевает «стихиями и органами чувств» (bhūtendriyajayin). Таким образом Патанджали опирается как на Йога-сутру 3.44, так и на 3.47. В первой из этих двух сутр он называет овладение стихиями результатом контроля духа, направляемого на различные аспекты материи, в то время как в сутре 3.47 овладение «смыслом» – результат направления полного контроля духа на различные аспекты восприятия.
Как показал Оберхаммер в его исследовании структуры медитации полного контроля духа[57], эта медитация не является обязательной для достижения главной цели Санкхья-йоги, т.е. освобождения из круговорота перерождений. В значительно большей мере она способствует получению силы и знаний. Это приводит йогина к основам магической картины мира, которая подобна картине мира ведической религии в том, что обе они стоят на представлениях о магии, которые сформированы посредством коррелятивного образа мышления.[58] Применимо к полному контролю духа, это означает, что между определенными местами и обстоятельствами с одной стороны и определенными формами знания, сверхъестественными способностями и силами с другой, должна быть магическая связь. Эта связь может быть использована йогином так, чтобы он, направляя полный контроль духа (saṃyama) на конкретное место или обстоятельство, приобретал свойство, коррелирующее с этим местом или обстоятельством.
Пример этого процесса – направление контроля духа на круг пупка, что в соответствии с раннеклассической Аюрведой дает знание о построении человеческого тела.[59] Очевидно, данная медитация базируется на представлении, что концентрация на пупке как центре человеческого тела открывает специфические знания о теле. Совершенно подобным образом, контроль духа, направленный на Солнце дает космологические знания, которые в основном соответствуют пуранической космологии[60], и, очевидно, Солнце как центральное небесное тело должно содержать ключ к знаниям об устройстве мира.
Наиболее полную форму сверхъестественных способностей и знаний, т.е. всесилие и всезнание, йогин получает из полностью соответствующего метафизике Санкхья-йоги понимания различия субъекта и ментального органа, которое по Йога-шастре Патанджали 3.49 возносит йога в подобное божеству (īśvara) состояние всесилия и всезнания.[61] Патанджали однако не раскрывает, какое отношение понимание различия субъекта и ментального органа имеет к медитации полного контроля духа.
Тот факт, что контроль духа ни по своей цели, ни по своей методике не связан с метафизикой санкхьи, указывает на то, что исторические корни этой формы медитации лежат за пределами интеллектуального движения Санкхья-йоги.[62] Вероятно Патанджали или один из его предшественников ввели медитацию полного контроля духа на почетное место системы йоги, при этом причины, тому способствующие, были скорее социологической чем сотериологической природы. Поскольку взгляд на приобретение сверхъестественных способностей делает йогу привлекательной также для тех брахманов, которые поняли свободу не как отсутствие желаний, а напротив, как возможность удовлетворения личных желаний и реализацию силы. Если посредством этого к практике йоги могла быть привлечена часть брахманических аскетов, которые целью своих религиозных практик видели приобретение сверхъестественных способностей, это усилило бы позицию йогинов как группы внутри (или точнее на границе) брахманически сформированного общества.[63]
4.3.4. К четвертой категории йогинов, которую Патанджали упоминает в цитируемом выше отрывке из Йога-шастры 3.51 принадлежит йогин, освобожденный при жизни, «чья единственная цель – растворение ментального органа»[64], которое происходит только при физической смерти йога. Детальнее о жизни йога, освобожденного при жизни, мы узнаем из Йога-шастры 2.27, где Патанджали в конце его категоризации йогов уместно цитирует.[65] Звучит это следущим образом:
«Семикратно его осознание в последнем состоянии. (Йога-сутра 2.27). [слово] «его» относится к [выражению] «йог, которому открылось понимание». «Семикратно» означает, что понимание отличающегося йога именно семикратно, т.к. другие переживания больше не существуют, а загрязнения и нечистота устранены. И таким образом: (1) он осознал, от чего ему нужно отказаться, так что ему больше не нужно этого снова осознавать. (2) он устранил причины того, от чего ему необходимо отказаться, так что ему не нужно их снова устранять. (3) Посредством концентрации, ведущей к остановке ментальных процессов, он достиг отказа. (оставления – прим.пер.) (4) Он реализовал методику отказа в форме отличающегося понимания. Таким образом он будет четверократно свободен от всего, что необходимо делать. Его освобождение от ментального органа, сформированного посредством понимания, является троекратным. (5) Составляющие (guṇa), из которых состоит его интеллект, выполнили свои задачи. Подобно обрушивающимся с вершины горы камням (кускам скалы) им не за что держаться и им предстоит растворение в их материальной причине. Они уходят вместе с их материальной причиной. (6) Растворенные составляющие больше не возникают, поскольку у них больше нет предназначения. (7) В таком состоянии субъект преодолел свою связь с компонентами. Тогда субъект является чистым, существующим-для-себя, идентичным своей природе, светом духа (Geistlicht). Субъект, испытывающий это семикратное озарение в своем последнем состоянии, называется освобожденным (kuśala). Также в том случае, когда ментальный орган возвратился в протоматерию, субъект освобождается, потому что он «преодолел составляющие» (Йога-шастра Патанджали 2.27: tasya saptadhā prāntabhūmiḥ prajñā (Yoga-Sūtra 2.27). tasyeti pratyuditakhyāteḥ pratyāmnāyaḥ. saptadheti aśuddhyāvaraṇamalāpagamāc cittasya pratyayāntarānutpāde sati saptaprakāraiva prajñā vivekino bhavati. tad yathā – parijñātaṃ heyaṃ nāsya punaḥ parijñeyam asti. kṣīṇā heyahetavo na punar eteṣāṃ kṣetavyam asti. sākṣātkṛtaṃ nirodhasamādhinā hānam. bhāvito vivekakhyātirūpo hānopāyā ity eṣā catuṣṭayī kāryavimuktiḥ. praj.ācittavimuktis66 trayī. caritādhikārā buddhiguṇāḥ.[67] giriśikharakūṭacyutā68 iva grāvāṇo niravasthānāḥ svakāraṇe pralayābhimukhāḥ saha tenāstaṃ gacchanti. na caiṣāṃ pratipralīnānāṃ69 punar asty utpādaḥ prayojanābhāvād iti. etasyām avasthāyāṃ guṇasaṃbandhātītaḥ svarūpamātrajyotir amalaḥ kevalī puruṣa iti. etāṃ saptavidhāṃ prāntabhūmipraj.ām anupaśyan puruṣaḥ kuśala ity ākhyāyate. pratiprasave ’pi cittasya muktaḥ kuśala ity eva bhavati guṇātītatvād iti.).
Семикратное последнее озарение йогина, освобожденного при жизни, Патанджали разделяет на две категории. Первая содержит четыре озарения, которые относятся к разделению на четыре части авторитетного учения йоги, которое Патанджали ввел в контексте аналогии между йогой и индийской медициной. Она содержит (1.) Уровень подъема (2.) Причину уровня подъема, (3.) Отказ и (4.) Методику отказа.[70]
Поскольку йогин освоил эти четыре раздела, ему больше нечего достигать.
Эту же мысль упоминает Патанджали и в первой главе его Йога-шастр, а именно – в связи с обеими составляющими йогу методами упражнения (abhyāsa) и отказа от желаний (vairāgya). При этом Патанджали выделяет два типа отказа от желаний: один нижний и один верхний. Нижний относится к привлекательным для йогина, непосредственно воспринимаемым объектам чувств, таким как женщины, блюда и напитки, также как и привлекательные религиозные цели, например, благоприятная судьба после смерти на небесах. Высокая форма свободы от желаний относится, напротив, ко всем вещам, которые принадлежат к онтологическому полю материи. Поскольку ментальный орган и проигрываемые в нем ментальные процессы считаются материальными, то, в конечном итоге, имеется в виду также свобода от желаний ко всему, чего можно достичь посредством медитации. В отношении этой свободы от желаний Патанджали говорит:
«Эта [свобода от желаний] является просто чистотой восприятия. Когда таковая устанавливается, тогда тот, у кого данное восприятие установилось, думает следующее: достигнуто то, что нужно было достигнуть. Уничтожены загрязнения, которые необходимо было уничтожить. Разрезано связанное крепким узлом продвижение существования, по причине которого, человек, пока оно не разрублено, умирает, когда был рожден, и рождается, когда умер. Отсутствие желаний истинно является наивысшей формой понимания. Быть-для-себя (kaivalya) с ней (с такой формой — прим.пер.) идентично».
(Йога-шастра Патанджали 1.16,4-7: taj jñānaprasādamātram, yasyodaye pratyuditakhyātir evaṃ manyate: prāptaṃ prāpaṇīyam, kṣīṇāḥ kṣetavyāḥ kleśāḥ, chinnaḥ śliṣ-ṭaparvā bhavasaṃkramaḥ, yasyāvicchedāj janitvā mriyate, mṛtvā ca jāyate. Jñānasyaiva parā kāṣṭhā vairāgyam. tasya nāntarīyakaṃ kaivalyam iti.).
В цитируемом выше пассаже представлено редкое подтверждение самоинтерпретации освобожденного понимания йогином. Йогин непосредственно познает отличие материи и субъекта, что приводит к освобождению его субъекта из круга перерождений. Таким образом он достиг священной цели йоги – существование-для-себя субъекта – и он это осознает.
Поскольку йогин достиг своей священной цели, то, исходя из цитируемого выше отрывка из Йога-шастры 2.27, он освоил все четыре раздела авторитетного учения йоги, которое систематически перекликается с медицинским исцелением болезни. Вообще-то можно было бы ожидать, что здесь представление йогического священного пути заканчивается. Однако в цитируемом выше отрывке заключаются еще три следующие формы озарения, которые у йогина строятся сами собой в соответствии с теологической картиной мира Санкхъя-йоги и вытекают из метафизической необходимости.
Так как в Санкхъя-йоге ментальный орган, принадлежащий к области материи, существует только потому, что он выполняет одно из двух возможных предназначений: либо снабжает субъект чувственными впечатлениями (переживаниями) и таким образом укрепляет связь между субъектом и материей, либо он вызывает освобождение субъекта.[71] Освобожденный йог, о котором идет речь в цитируемом выше отрывке, как раз достиг указанного последним предназначения. Таким образом ментальный орган теряет свое назначение и вместе с этим причину своего существования, так что он, в соответствии со схемой санкхьи, растворяется при материальном переходе к протоматерии. Этот процесс, по Патанджали, необратим. Поскольку ментальный орган уже выполнил свое предназначение, нет никаких оснований для его возобновленного существования. Таким образом круговорот перерождений для освобожденного йогина окончательно устранен. С разрушением ментального органа при физической смерти йогин достигает своей священной цели – вечного для-себя-существование субъекта.
5. Йогин — святой?
Как показывают предыдущие размышления, Йога-шастра Патанджали представляет собой сотериологическую систему, которая концептуально ориентируется на древнеиндийскую медицину.[72] Патанджали видит структурную аналогию между «мирским» лечением болезней и достижением трансцедентного «священного» состояния, которая [аналогия – прим.пер.] посредством этимологического родства терминов в немецком языке при любом рассмотрении напрашивается сама собой[73]: «Heilung» (лечение, исцеление), «Heil» (священный) и «Heiligkeit» (святость).
В рамках предыдущих соображений возникает вопрос, является ли правомерным при рассмотрении йоги как религиозно-философской системы спасения (исцеления), использовать термин «святость» (Heiligkeit) применительно к описанию йоги в целом или йога на конкретном уровне его духовного развития.
Далее, как мы видели, по Патанджали[74] йоги принадлежат к социальному сословию брахманов. Таким образом, они являются частью группы, которая в рамках общества, сформированного на вере в действенность брахманически легитимизированных религиозных практик, не только претендует на «социально-религиозное главенство» (Michaels 2006: 209), но также, начиная не позднее времен династии Гупта, широко распространилась по многочисленным частям Южной Азии и за ее пределами. Бронкхорст (Bronkhorst) описывает следующим образом средство достижения этого главенства: «важный инструмент в руках браминов – это их знание вед, коллекции текстов, которые большинству населения не разрешалось даже слышать рецитируемыми, не говоря уже про то, чтобы их изучать. Зачастую это их секретное знание, которое дает им силу работать на благо королевства, его правителя и его населения. Это также позволяет им делать противоположное, и это важная причина ублажать их» (Бронкхорст, 2011: 52).
Вера в специфическое брахманическое знание, требуемое для корректного выполнения влиятельных религиозных ритуалов, была однако не единственным источником брахманической силы. Также вера в то, что из аскетической и йогической практики происходят сверхъестественные способности, как указано выше[75], сделала свой вклад в установление и укрепление главенствующего социально-религиозного положения брахманов.
Патанджали считает получение сверхъестественных способностей уже на более раннем уровне йогического пути спасения само собой разумеющимся, поскольку уже йогины второго духовного уровня по его представлению вступают в контакт с небесными сущностями.[76] Дальнейшее духовное развитие йогина ведет к последовательному прогрессивному преумножению знаний и силы вплоть до полного всезнания и всесилия.[77]
Если ограничить термин «святость» кругом лиц, обладающих особой религиозной властью, то применение этого слова к йогинам является вполне обоснованным.
Подлинная цель стремления к спасению в Санкхья-йоге – это полное отделение трансцендентного субъекта от области материи, которое происходит из осознания онтологического различия между субъектом и материей. Эта цель, достигнутая при жизни, ставит йогина, по Патанджали, в экзистенциальную ситуацию, которая отличается от таковой для всех остальных людей. Йогин полностью и навсегда освобожден от всех страданий. Он достиг сакральной цели. Также и по этой причине освобожденного йога можно вполне назвать святым (ориг. нем. Heiliger – прим. пер.), если ограничить семантику данного термина на круг лиц, которые полностью (или частично) прошли их путь спасения. Посредством такого определения данного термина уменьшается опасность проекций и ложных ассоциаций, которые могут возникнуть из теологически-религиозно-научного двойного толкования термина «святой» («Der Heilige»).[78]
Автор статьи — Филипп А. Маас, Венский университет
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ О ЗДОРОВЬЕ ПО АЮРВЕДЕ 🙏

АЮРВЕДА UA
https://t.me/ayurvedaua
Первый Телеграм канал на украинском языке о здоровом образе жизни с помощью Аюрведы и других восточных медицинских систем. Самая выборочная и полезная, интересная и актуальная информация для достижения идеального здоровья.

АЮРВЕДА ПОРТАЛ
https://t.me/ayurveda_rosa
Наш второй, международный русскоязычный Телеграм-канал для любителей аюрведы всего мира. Двуязычным согражданам рекомендуем подписаться на оба канала.
Вы узнаете много интересного и полезного : статьи, видео, интервью, афоризмы, рекомендации, рецепты вегетарианской кухни, и все то, что поможет вам получить проверенные тысячелетние знания о психическом и физическом здоровье человека.
Аюрведа – древнейшая наука не только о том, как жить без болезней, но и о том, как стать эффективным и счастливым. Уникальное знание себя, работы тела, которое полезно для вас. Наверное, самая важная информация в нашей жизни.
Переходите по ссылкам, знакомьтесь с секретами аюрведы. Обязательно подписывайтесь, будьте здоровы и счастливы, дорогие друзья!
Сегодня в эфире
Програма телепередач Роса ТВ
Наш Бутик Аюрведы
В самом центре Киева, открылся первый в Украине, шикарный магазин. Где были собраны лучшие производители натуральных медицинских препаратов со всего мира.
Презентация канала
РОСА ТВ – первый в Украине Интернет канал о здоровом образе жизни и духовном развитии человека, который объединил в себе современные технологии и мудрость веков.
Болезни и их лечение
- Имунная система
- Кожные заболевания
- Нервная система
- Очищение организма
- Сердечно — сосудистая система
- Опорно — двигательная система
- Дыхательная система
- Заболевания печени
- Заболевания почек
- Мочевыделительная система
- Лимфатическая система
- Женские заболевания
- Мужские заболевания
- Болезни глаз
- Упадок сил
- Старение организма
НОВОСТИ
-
Чесночный суп с чеддером
Февраль 1, 2026
-
У Цинь Си
Февраль 1, 2026
-
1 день голодания омолаживает организм на 3 месяца!
Февраль 1, 2026
-
Простой салат с баклажаном, фетой и рукколой
Январь 31, 2026
Здоровье
-
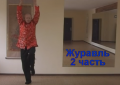 У Цинь СиФевраль 1, 2026
У Цинь СиФевраль 1, 2026 -
 1 день голодания омолаживает организм на 3 месяца!Февраль 1, 2026
1 день голодания омолаживает организм на 3 месяца!Февраль 1, 2026 -
 Агни: Сила внутреннего огняЯнварь 31, 2026
Агни: Сила внутреннего огняЯнварь 31, 2026 -
 Аюрведические принципы питанияЯнварь 25, 2026
Аюрведические принципы питанияЯнварь 25, 2026
Аюрведа
-
 Агни: Сила внутреннего огняЯнварь 31, 2026
Агни: Сила внутреннего огняЯнварь 31, 2026 -
 Проявление Дош в человеческой жизни является абсолютно тотальнымЯнварь 28, 2026
Проявление Дош в человеческой жизни является абсолютно тотальнымЯнварь 28, 2026 -
 Аюрведические принципы питанияЯнварь 25, 2026
Аюрведические принципы питанияЯнварь 25, 2026 -
 Жареный рисЯнварь 22, 2026
Жареный рисЯнварь 22, 2026 -
 Шатавари - омолаживающий эликсир Аюрведы для женщинЯнварь 22, 2026
Шатавари - омолаживающий эликсир Аюрведы для женщинЯнварь 22, 2026 -
 Аюрведа: Временные циклы - суточный, годовой, возрастнойЯнварь 19, 2026
Аюрведа: Временные циклы - суточный, годовой, возрастнойЯнварь 19, 2026
Светлые Отношения
Программа Роса ТВ "Светлые Отношения"